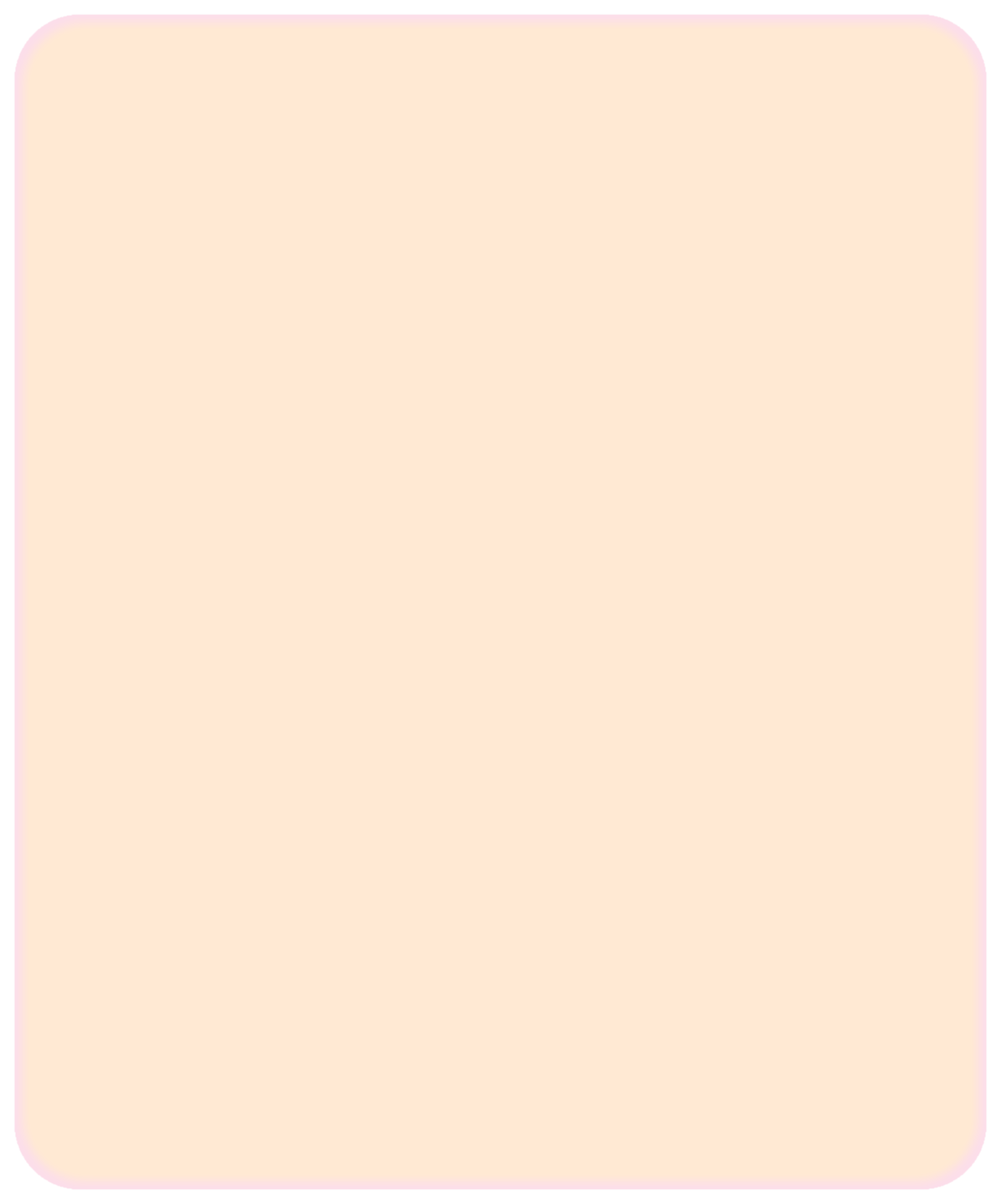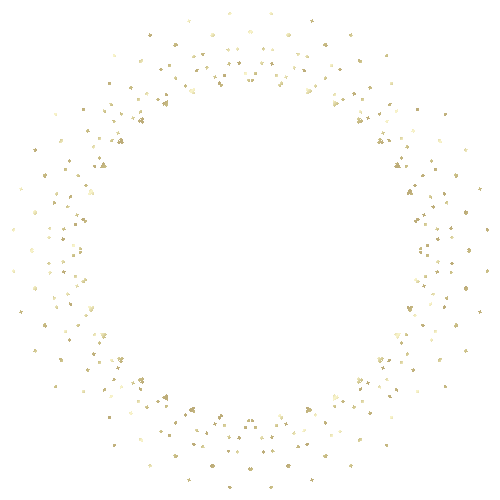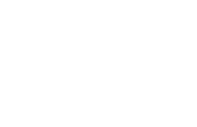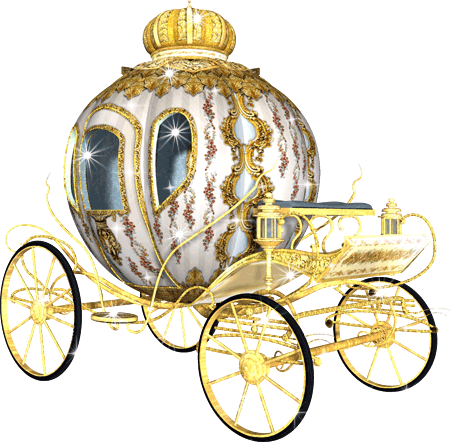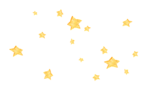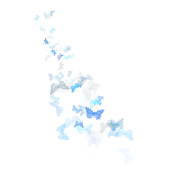Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы
веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали.
«Смотри, сынок, – говорил старый пискарь, умирая, – коли хочешь жизнью жуировать,
так гляди в оба!»
А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда
ни обернется – везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех
меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не
понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха
– в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь – и тот, как увидит,
что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг
с дружкой драться, только комара задаром растреплют.
А человек? – что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб
его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и,
наконец… уду! Кажется, что может быть глупее уды? – Нитка, на нитке крючок, на крючке
– червяк или муха надеты… Да и надеты-то как?… в самом, можно сказать, неестественном
положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!
Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! – говорил
он. – Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее,
то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься –
ан в мухе-то смерть!»
Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту
пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну
волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли,
и плотва, и гольцы, – даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так
и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке
волокли, – это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а
куда – не знает. Видит, что у него с одного боку – щука, с другого – окунь; думает:
вот-вот сейчас или та, или другой его съедят, а они – не трогают… «В ту пору не до
еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла –
никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег
и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется
на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он
сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают… Слышит – «костер»,
говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере,
во время бури, ходуном ходит. Это – «котел», говорят. А под конец стали говорить:
вали в «котел» рыбу – будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак
рыбину – та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется
– и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом
один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи!
пущай в реке порастет!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не
будь глуп, во все лопатки – домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва
выглядывает…
И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается,
однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!
Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал.
Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь
прожить – не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил,
– сказал он себе, – а не то как раз пропадешь!» – и стал устраиваться.