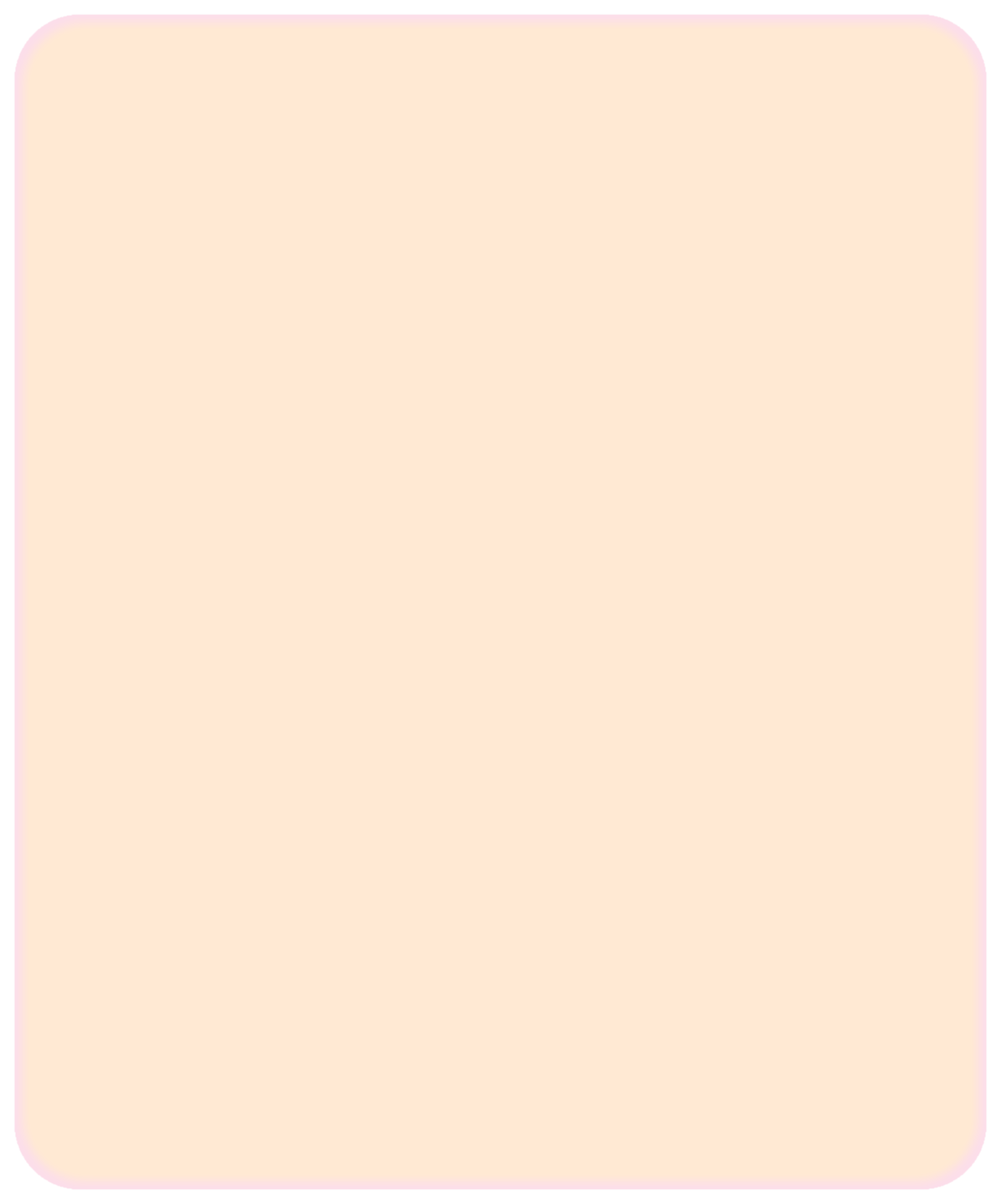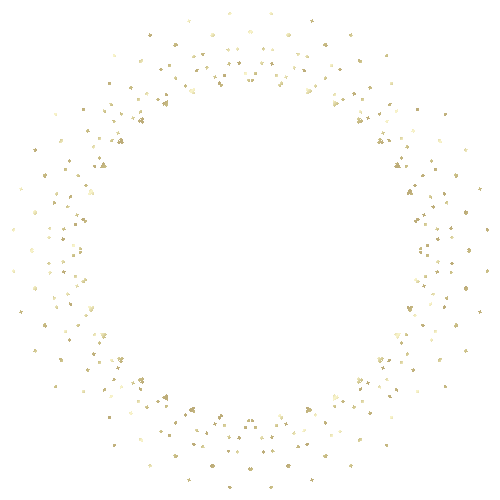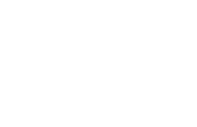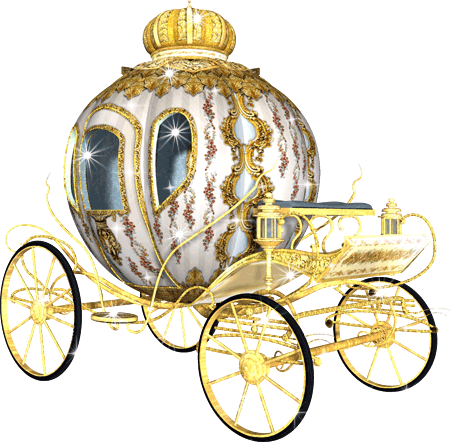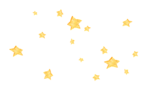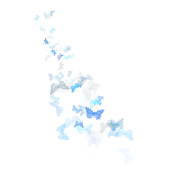— А ты ее не слушай, Джим. Мало ли что она говорит. Давай мне
ведро, я в одну минуту
сбегаю. Она даже не узнает.
— Ой, боюсь, мистер Том. Старая хозяйка мне за это голову оторвет.
Ей-богу, оторвет.
— Она-то? Да она никогда и не дерется. Стукнет по голове наперстком, вот и все, —
подумаешь, важность какая! Говорит-то она бог знает что, да ведь от слов ничего не
сделается, разве сама заплачет. Джим, я тебе шарик подарю! Я тебе подарю белый с
мраморными жилками!
Джим начал колебаться.
— Белый мраморный, Джим! Это тебе не пустяки!
— Ой, как здорово блестит! Только уж очень я боюсь старой хозяйки, мистер Том…
— А еще, если хочешь, я тебе покажу свой больной палец.
Джим был всего-навсего человек — такой соблазн оказался ему не по силам. Он поставил
ведро на землю, взял белый шарик и, весь охваченный любопытством, наклонился над
больным пальцем, покуда Том разматывал бинт. В следующую минуту он уже летел по улице,
громыхая ведром и почесывая спину, Том усердно белил забор, а тетя Полли удалялась
с театра военных действий с туфлей в руке и торжеством во взоре.
Но энергии Тома — хватило ненадолго. Он начал думать о том, как весело рассчитывал
провести этот день, и скорбь его умножилась. Скоро другие мальчики пойдут из дому
в разные интересные места и поднимут Тома на смех за то, что его заставили работать,
— одна эта мысль жгла его, как огнем. Он вынул из кармана все свои сокровища и произвел
им смотр: ломаные игрушки, шарики, всякая дрянь, — может, годится на обмен, но едва
ли годится на то, чтобы купить себе хотя бы один час полной свободы. И Том опять
убрал в карман свои тощие капиталы, оставив всякую мысль о том, чтобы подкупить мальчиков.
Но в эту мрачную и безнадежную минуту его вдруг осенило вдохновение. Не более и не
менее как настоящее ослепительное вдохновение!
Он взялся за кисть и продолжал не торопясь работать. Скоро из-за угла показался Бен
Роджерс — тот самый мальчик, чьих насмешек Том боялся больше всего на свете. Походка
у Бена была легкая, подпрыгивающая — верное доказательство того, что и на сердце
у него легко и от жизни он ждет только самого лучшего. Он жевал яблоко и время от
времени издавал протяжный, мелодичный гудок, за которым следовало: «Диньдон-дон,
динь-дон-дон», — на самых низких нотах, потому что Бен изображал собой пароход. Подойдя
поближе, он убавил ход, повернул на середину улицы, накренился на правый борт и стал
не торопясь заворачивать к берегу, старательно и с надлежащей важностью, потому что
изображал «Большую Миссури» и имел осадку в девять футов. Он был и пароход, и капитан,
и пароходный колокол — все вместе, и потому воображал, что стоит на капитанском мостике,
сам отдавал команду и сам же ее выполнял.
— Стоп, машина! Тинь-линь-линь! — Машина застопорила, и пароход медленно подошел
к тротуару. — Задний ход! — Обе руки опустились и вытянулись по бокам.
— Право руля! Тинь-линь-линь! Чу! Ч-чу-у! Чу! — Правая рука тем временем торжественно
описывала круги: она изображала сорокафутовое колесо.
— Лево руля! Тинь-линь-линь! Чу-ч-чу-чу! — Левая рука начала описывать круги.
— Стоп, правый борт! Тинь-линь-линь! Стоп, левый борт! Малый ход! Стоп, машина! Самый
малый! Тинь-линь-линь! Чу-у-у! Отдай концы! Живей! Ну, где же у вас канат, чего копаетесь?
Зачаливай за сваю! Так, так, теперь отпусти! Машина стала, сэр! Тинь-линь-линь! Шт-шт-шт!
(Это пароход выпускал пары.)
Том по-прежнему белил забор, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился
на него и сказал: — Ага, попался, взяли на причал!
Ответа не было. Том рассматривал свой последний мазок глазами художника, потом еще
раз осторожно провел кистью по забору и отступил, любуясь результатами. Бен подошел
и стал рядом с ним. Том проглотил слюну — так ему захотелось яблока, но упорно работал.